КРЕПОСТЬ НИЕНШАНЦ
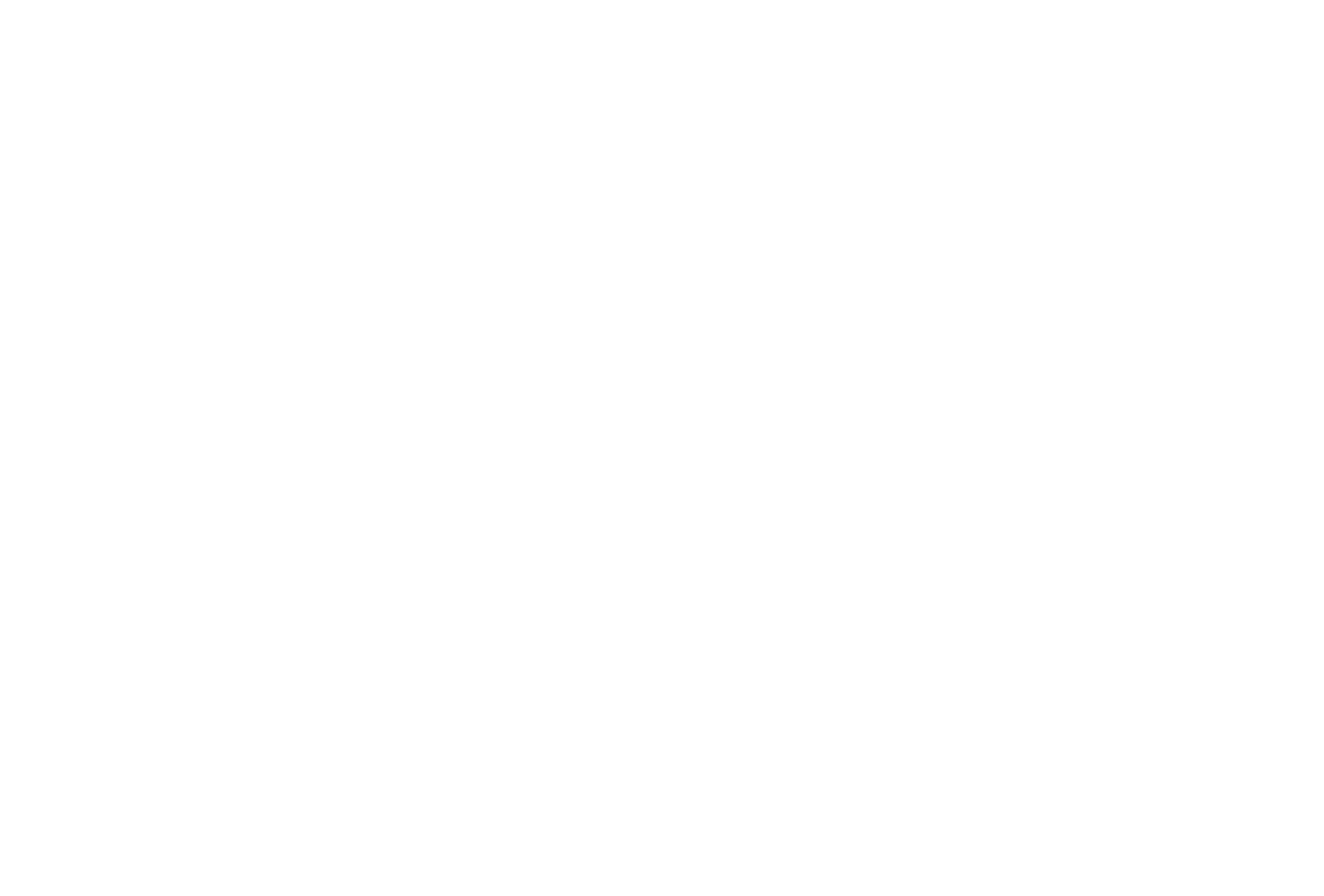
Крепость Ниеншанц, основанная в устье реки Охты в 1611 г., стала очередным этапом много- векового процесса освоения этой территории, занимавшей удобное географическое положение – на пересечении важнейших путей того времени: водного, проходившего по Неве, и сухопутного, связывавшего Ижорскую землю с Карелией и Финляндией. Узкий мыс при слиянии Охты и Невы был одним из наиболее удобных мест в нижнем течении Невы для устройства мысовой
фортификации1.
Первые краткие свидетельства по истории Ниеншанца связаны с описаниями иностранных путешественников, побывавших в Петербурге вскоре после его основания. В анонимном описании на немецком языке, названном «Точное известие о… крепости и городе Санкт-Петербург, о крепостце Кроншлот и их окрестностях», изданном в Германии в 1713 г., сообщается о том, что укрепления Ниеншанца были разрушены. О полном их разрушении говорится и в других немецких изданиях: «Преображенная Россия» ФридрихаХристиана Вебера, «Кратком описании большого императорского города Санкт-Петербурга», а также в описании французского путешественника Огюста Де Ла Мотрэ2. Некоторые подробности о разрушении Ниеншанца имеются и в книге датского посланника Юста Юля3.
В «Истории императора Петра Великого» Феофана Прокоповича сообщается только о разорении Ниеншанца и переселении его жителей в Петербург4. Упоминание Ниеншанца как памятника Петровской эпохи и первый призыв к его сохранению впервые содержится в сочинении середины XVIII в.5 Подробное описание штурма Ниеншанца приводится в ряде изданий XVIII в.6
Изучение истории города и крепости в устье реки Охты приходится на следующий, XIX в. Первое исследование истории Ниена и Ниеншанца, основанное на шведских архивных документах и картах, было проведено лютеранским пастором А.И. Гиппингом, в результате чего появилась книга «Нева и Ниеншанц»7. Следующая обобщающая публикация на эту тему, в которой дается системный обзор исторического развития города и крепости в устье реки Охты, была сделана в 1891 г. Карлом Бонсдорфом8. Примечательно, что обе эти книги были изданы первоначально в Финляндии на шведском языке. Лишь впоследствии работа А.И. Гиппинга и собранные им и А.А. Куником карты были подготовлены к изданию с комментариями на русском языке А.С. Лаппо-Данилевским9.
В середине XIX столетия военный инженер Федор Ласковский, изучавший крепости на территории Российской империи, впервые дал характеристику укреплений Ниеншанца и событий, связанных с его штурмом, с инженерной точки зрения10. Штурм Ниеншанца и дальнейшая судьба его укреплений описаны и в ряде других изданий того и более позднего времени11.
В советское время отдельные работы, касающиеся истории Ниеншанца в контексте борьбы русского народа за выход к Балтике, появляются только перед Великой Отечественной войны12. Несколько позднее в Швеции русскими учеными было продолжено издание и интерпретация шведских карт Ингерманландии, дельты Невы и Ниеншанца13. Одной из первых работ, возродивших эту тему в советской послевоенной историографии, стала статья Е.А. Кальюнди, А.Н. Кирпичникова «Крепости Ингерманландии и Карелии в 1681 г.». Авторы осветили один из наиболее важных периодов в истории Ниеншанца, связанный с деятельностью генерал-квартирмейстера Эрика Дальберга14.
Значительный вклад в изучение истории города в устье Охты в контексте общей истории Северо-Западного региона в XVII в., на основе новых архивных документов, сделал в ряде своих работ И.П. Шаскольский15. Позднее эти исследования были продолжены российскими и шведскими исследователями16. Начиная с 1992 г. для этих целей начинают привлекаться и археологические данные17.
Первые упоминания Ниеншанца, связанные с его основанием и русско-шведской войной, имеются у Юхана Видекинда. Новая шведская крепость на Неве была задумана еще до начала Русско-шведской войны. Осенью 1609 г. шведский король Карл IX организовал разведку на берегах Невы с целью выбора места для строительства новой крепости, а несколько месяцев спустя – 24 февраля 1610 г. – он отдал приказание найти на Неве место, удобное для сооружения новой крепости, «чтобы можно было защищать всю Неву под эгидой шведской короны». Одним из возможных мест ее сооружения названо место, где ранее (в середине XIV в. – П.С.) находился блокгауз Магнуса Эриксона. При этом следует отметить, что какиелибо другие упоминания о каких-либо шведских укреплениях на Неве во время шведского вторжения 1348–1349 гг. в документах отсутствуют. В ходе этой войны шведы захватили Орешек и в течение почти семи месяцев удерживали его. Однако здесь речь, судя по всему, идет не об Орешке, так как эта крепость в то время продолжала существовать. Вполне вероятно, что шведы в 1348 г. еще до захвата Орешка вновь использовали устье Охты в качестве опорного пункта и, возможно, в каком-то виде восстановили укрепления Ландскроны.
После взятия шведскими войсками Кексгольма в начале весны 1611 г. Якоб Делагарди двинулся по весенней распутице на Новгород. Он предлагал королю послать войска к Ладоге, чтобы отрезать Нотеборг, и послал описание и чертеж Ладожского озера, при этом указывал, как важно было бы построить крепость у реки Невы, в 6 милях ниже Нотеборга, и послал в Стокгольм предполагаемого строителя крепости изложить некоторые подробности этого плана18. К письму Карлу IX был приложен проект новых укреплений, который, судя по всему, был одобрен королем. Работы по сооружению крепости велись с весны до зимы 1611 г. Руководили ими крепостной мастер Херро Янсс и полковник Линдвед Классон Хестеско. На сроках работ сказывалась нехватка квалифицированных рабочих и материалов, а также предпринимавшиеся с русской стороны попытки помешать строительству. В письме, написанном в начале июля, король сетовал на то, «что медленно строится укрепление на Неве», и требовал ускорить сооружение крепости19. К началу осады Нотеборга «недавно поставленный Ниеншанц уже настолько окреп благодаря насыпям, валу и рвам, что в его укреплениях могло укрыться 500 человек». Впоследствии Ниеншанц неоднократно упоминается в связи с продолжавшейся Русско-шведской войной. В конце 1615 г. Густав II Адольф побывал в приграничных крепостях, где были оставлены наместники и коменданты. Комендантом Ниеншанца был назначен Тенне Йорансон. Ранней весной 1616 г. «проезжая через Ниеншанц и Нотеборг, его величество (Густав II Адольф. – П.С.) изучил положение дел и нашел, если русские завладеют этими крепостями вновь и используют выгоды своего положения, то его величество должен будет или собственными руками обратить в развалины Выборг, Ревель, Гельсингфорс и Борго, а затем отдать их русским, или же неизбежно вступить с ними в новую войну»20
фортификации1.
Первые краткие свидетельства по истории Ниеншанца связаны с описаниями иностранных путешественников, побывавших в Петербурге вскоре после его основания. В анонимном описании на немецком языке, названном «Точное известие о… крепости и городе Санкт-Петербург, о крепостце Кроншлот и их окрестностях», изданном в Германии в 1713 г., сообщается о том, что укрепления Ниеншанца были разрушены. О полном их разрушении говорится и в других немецких изданиях: «Преображенная Россия» ФридрихаХристиана Вебера, «Кратком описании большого императорского города Санкт-Петербурга», а также в описании французского путешественника Огюста Де Ла Мотрэ2. Некоторые подробности о разрушении Ниеншанца имеются и в книге датского посланника Юста Юля3.
В «Истории императора Петра Великого» Феофана Прокоповича сообщается только о разорении Ниеншанца и переселении его жителей в Петербург4. Упоминание Ниеншанца как памятника Петровской эпохи и первый призыв к его сохранению впервые содержится в сочинении середины XVIII в.5 Подробное описание штурма Ниеншанца приводится в ряде изданий XVIII в.6
Изучение истории города и крепости в устье реки Охты приходится на следующий, XIX в. Первое исследование истории Ниена и Ниеншанца, основанное на шведских архивных документах и картах, было проведено лютеранским пастором А.И. Гиппингом, в результате чего появилась книга «Нева и Ниеншанц»7. Следующая обобщающая публикация на эту тему, в которой дается системный обзор исторического развития города и крепости в устье реки Охты, была сделана в 1891 г. Карлом Бонсдорфом8. Примечательно, что обе эти книги были изданы первоначально в Финляндии на шведском языке. Лишь впоследствии работа А.И. Гиппинга и собранные им и А.А. Куником карты были подготовлены к изданию с комментариями на русском языке А.С. Лаппо-Данилевским9.
В середине XIX столетия военный инженер Федор Ласковский, изучавший крепости на территории Российской империи, впервые дал характеристику укреплений Ниеншанца и событий, связанных с его штурмом, с инженерной точки зрения10. Штурм Ниеншанца и дальнейшая судьба его укреплений описаны и в ряде других изданий того и более позднего времени11.
В советское время отдельные работы, касающиеся истории Ниеншанца в контексте борьбы русского народа за выход к Балтике, появляются только перед Великой Отечественной войны12. Несколько позднее в Швеции русскими учеными было продолжено издание и интерпретация шведских карт Ингерманландии, дельты Невы и Ниеншанца13. Одной из первых работ, возродивших эту тему в советской послевоенной историографии, стала статья Е.А. Кальюнди, А.Н. Кирпичникова «Крепости Ингерманландии и Карелии в 1681 г.». Авторы осветили один из наиболее важных периодов в истории Ниеншанца, связанный с деятельностью генерал-квартирмейстера Эрика Дальберга14.
Значительный вклад в изучение истории города в устье Охты в контексте общей истории Северо-Западного региона в XVII в., на основе новых архивных документов, сделал в ряде своих работ И.П. Шаскольский15. Позднее эти исследования были продолжены российскими и шведскими исследователями16. Начиная с 1992 г. для этих целей начинают привлекаться и археологические данные17.
Первые упоминания Ниеншанца, связанные с его основанием и русско-шведской войной, имеются у Юхана Видекинда. Новая шведская крепость на Неве была задумана еще до начала Русско-шведской войны. Осенью 1609 г. шведский король Карл IX организовал разведку на берегах Невы с целью выбора места для строительства новой крепости, а несколько месяцев спустя – 24 февраля 1610 г. – он отдал приказание найти на Неве место, удобное для сооружения новой крепости, «чтобы можно было защищать всю Неву под эгидой шведской короны». Одним из возможных мест ее сооружения названо место, где ранее (в середине XIV в. – П.С.) находился блокгауз Магнуса Эриксона. При этом следует отметить, что какиелибо другие упоминания о каких-либо шведских укреплениях на Неве во время шведского вторжения 1348–1349 гг. в документах отсутствуют. В ходе этой войны шведы захватили Орешек и в течение почти семи месяцев удерживали его. Однако здесь речь, судя по всему, идет не об Орешке, так как эта крепость в то время продолжала существовать. Вполне вероятно, что шведы в 1348 г. еще до захвата Орешка вновь использовали устье Охты в качестве опорного пункта и, возможно, в каком-то виде восстановили укрепления Ландскроны.
После взятия шведскими войсками Кексгольма в начале весны 1611 г. Якоб Делагарди двинулся по весенней распутице на Новгород. Он предлагал королю послать войска к Ладоге, чтобы отрезать Нотеборг, и послал описание и чертеж Ладожского озера, при этом указывал, как важно было бы построить крепость у реки Невы, в 6 милях ниже Нотеборга, и послал в Стокгольм предполагаемого строителя крепости изложить некоторые подробности этого плана18. К письму Карлу IX был приложен проект новых укреплений, который, судя по всему, был одобрен королем. Работы по сооружению крепости велись с весны до зимы 1611 г. Руководили ими крепостной мастер Херро Янсс и полковник Линдвед Классон Хестеско. На сроках работ сказывалась нехватка квалифицированных рабочих и материалов, а также предпринимавшиеся с русской стороны попытки помешать строительству. В письме, написанном в начале июля, король сетовал на то, «что медленно строится укрепление на Неве», и требовал ускорить сооружение крепости19. К началу осады Нотеборга «недавно поставленный Ниеншанц уже настолько окреп благодаря насыпям, валу и рвам, что в его укреплениях могло укрыться 500 человек». Впоследствии Ниеншанц неоднократно упоминается в связи с продолжавшейся Русско-шведской войной. В конце 1615 г. Густав II Адольф побывал в приграничных крепостях, где были оставлены наместники и коменданты. Комендантом Ниеншанца был назначен Тенне Йорансон. Ранней весной 1616 г. «проезжая через Ниеншанц и Нотеборг, его величество (Густав II Адольф. – П.С.) изучил положение дел и нашел, если русские завладеют этими крепостями вновь и используют выгоды своего положения, то его величество должен будет или собственными руками обратить в развалины Выборг, Ревель, Гельсингфорс и Борго, а затем отдать их русским, или же неизбежно вступить с ними в новую войну»20
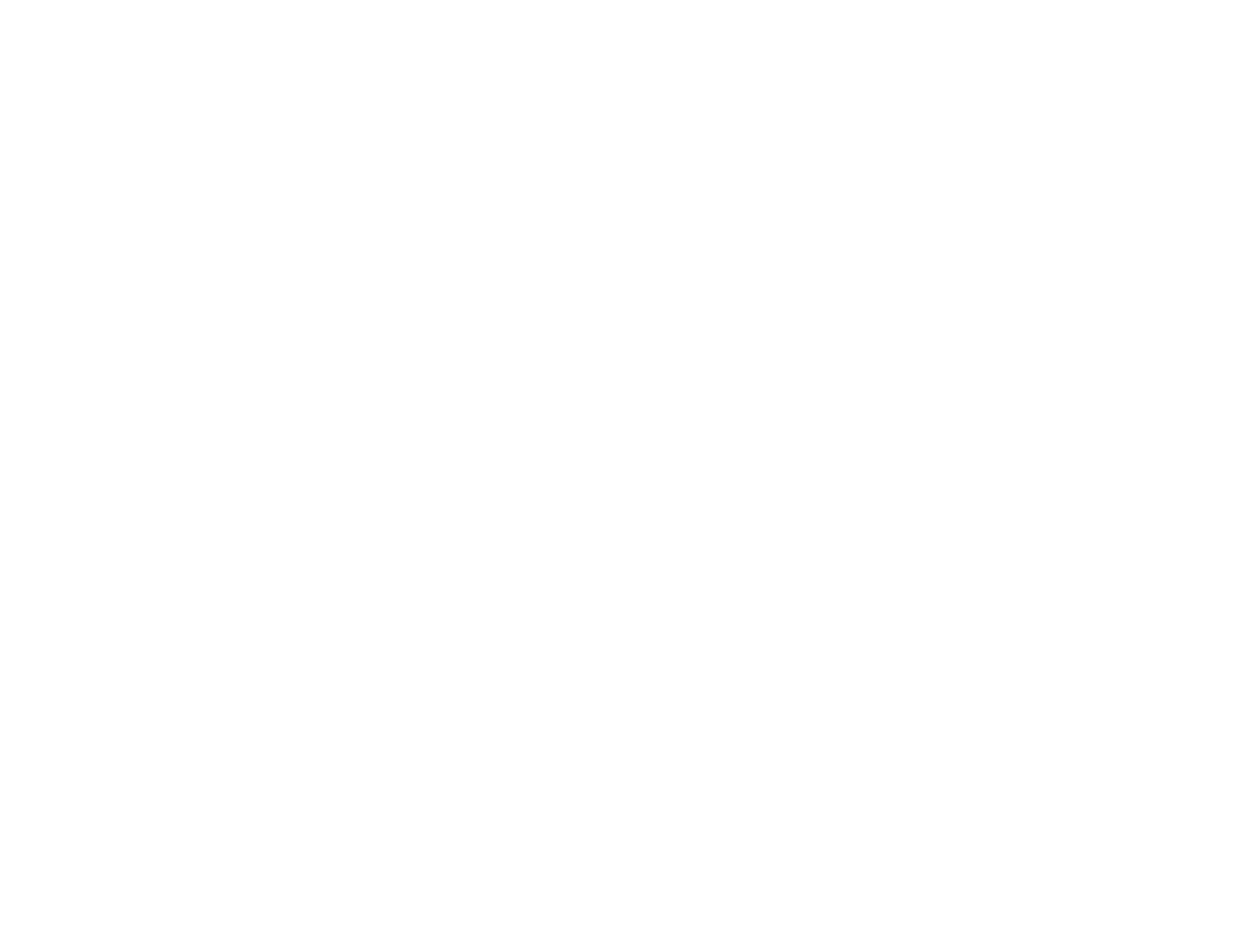
Э. Дальберг. План крепости Ниеншанц с разрезом новых укреплений, 1681 г
Шведское военное командование придавало чрезвычайно важное значение Ниеншанцу в обороне новых шведско-русских рубежей. Располагаясь между Копорьем и Нотеборгом, крепость должна была защищать коммуникации, проходившие через устье Невы. Она получила название – Нюенсканс, что в переводе со шведского означало «Невское укрепление». В то же время это название может переводиться и как «Новое укрепление». Русское название города на Охте – Канцы было производным от шведского Сканцен, что означало «Земляное укрепление», «Небольшая крепость». Финны называли его Неванлинна. Начиная с петровского времени в русском языке закрепился немецкий вариант названия крепости – Ниеншанц. Согласно заключенному в 1617 г. Столбовскому миру Россия, ослабленная внешними и внутренними войнами Смутного времени, вынуждена была уступить Швеции Ижорскую землю и значительную часть Карелии.
Изображение ранних укреплений Ниеншанца, вероятно построенных в 1611 г., имеется на шведских картах середины XVII столетия. Следует заметить, что эти карты, за редким исключением, выполнены достаточно схематично, что не позволяет достоверно определить размеры и точную локализацию укреплений. На карте Эрика Нильса Аспегрена, изготовленной около 1650 г., на мысу при впадении Охты в Неву показан прямоугольный шанец «Konungsgarden» – «Королевский двор»21. На карте, датируемой около 1650 г., имеется схематичное изображение замка – двухэтажного сооружения с башенками22. Шанец был небольшим и имел прямоугольную форму. Его размеры достигали 120х100 шведских локтей, а толщина стен
составляла 15 локтей (примерно 72х60 м и около 9 м. – П.С.)23.
На более ранней карте устья Невы 1643 г. крепость изображена более детально – с внешними земляными укреплениями, включавшими значительную по площади территорию24. Она имела вид неправильного шестиугольника с тремя бастионами, выдвинутыми в южном и восточном направлениях. В крепостных валах было двое ворот, одни из которых вели к мосту через Охту, другие выходили на берег Невы. Цитадель прямоугольной формы располагалась в центральной части крепости, а вокруг нее находились другие постройки (рис. 1).
На проектном чертеже Георга Швенгеля замок прямоугольной формы с семигранными башенками по углам и воротами в восточной стене, выходившими к Охте, был смещен к западу от центра мыса и находился ближе к берегу Невы. План датирован 1644 г., однако нанесенная на нем ситуация, судя по имеющейся надписи, может частично восходить к более раннему времени. «Здесь в 1633 году я по милостивому повелению Вашего Королевского Величества наметил поселение для обывателей, Бог в помощь» – написано на плане. Таким образом, разметка города и, вероятно, укреплений была начата всего год спустя после королевского указа об основании города Ниена на Неве, в 1633 г.25
Однако с гибелью короля Густава II Адольфа реализация этих планов затянулась. Новый – исправленный проект был подготовлен тем же автором только в 1644 г., после постановления Государственного совета 1638 г. о распланировании города. Проектный чертеж предусматривал строительство новых укреплений с двумя линиями обороны.
Внешние валы и рвы в форме полумесяца, замыкающиеся на берега Невы и Охты, должны были окружить всю городскую застройку по обе стороны Охты. В пределах укреплений предусматривалось сооружение восьми бастионов, усиленных равелинами. Единственные ворота проектировались в северной части – по трассе дороги на Выборг. Со стороны Невы город также должны были защищать укрепления, хотя и менее внушительные, чем с напольной стороны. На мысу между Невой и Охтой планировалось сооружение пятиугольной цитадели с четырьмя бастионами и тремя равелинами. В центре ее предполагалось сохранить первоначальный замок. Бастионы цитадели должны были иметь удлиненные фасы с острыми исходящими углами и укороченные фланки, располагающиеся перпендикулярно куртинам крепости, что характерно для голландской системы укреплений. Однако реализация этого проекта затянулась.
В 1652 г. генерал-губернатор Ингерманландии Эрик Стенбок послал новый план укреплений Ниена в Стокгольм. Он сетовал на то, что город Ниен до сих пор не укреплен. «Если крепость к этому времени была укреплена и могла выдержать осаду, то расположенный вокруг нее незащищенный город был бы большой помехой при
ее обороне, так как дома, используемые противником в качестве прикрытия, значительно облегчили бы штурм», – докладывал он в Стокгольм. В том же году правительство утвердило обновленный генерал-квартирмейстером Юханом фон Роденбургом проект укреплений Ниена. Военная коллегия поручила Юхану Верншёльду переработать этот план в некоторых пунктах, после чего он был послан в Ниен для осуществления. За разметку на местности отвечал Генрих фон Зойленберг. Надзор за работами был поручен Юхану фон Роденбургу, но впоследствии работы были приостановлены26. На проектном чертеже городские укрепления приобретают более округлые очертания. Количество бастионов в них уменьшается до семи. Двое ворот из города вели в направлении Выборга и Нотеборга. Цитадель, расположенная на мысу, имеет форму звезды с пятью пустыми бастионами. Два ее бастиона выходят в русла Невы и Охты, а окружающий ров заполнен водой. По внутреннему периметру укреплений и в центре цитадели планировались постройки. Единственные крепостные ворота без равелина были со стороны Охты27.
Проекты 1630–1650-х гг. предусматривали сооружение укреплений вокруг уже сформировавшегося города и включение в него новых, еще не освоенных территорий на левом берегу Охты. Однако реализация их затягивалась из-за отсутствия средств. В каком состоянии крепость находилась к началу войны 1656–1661 гг., не совсем ясно. Во всяком случае ее укрепления, видимо, еще не были завершены. В этой войне Россия попыталась вернуть утраченный выход к Балтике. Весной и летом 1656 г. русские войска вступили в Прибалтику, Ингерманландию и Карелию. В начале июня войско под руководством Петра Потемкина блокировало крепость Нотеборг. Услышав о приближении русских, находившийся в Ниеншанце генерал-губернатор Густав Горн с людьми на судах эвакуировался в Нарву28. 30 июня Ниеншанц был взят отрядом русских войск. В городе были сожжены около 500 домов, значительные запасы хлеба и захвачены восемь пушек29. Однако вскоре после этого, учитывая, что в Нарве находились превосходящие силы противника, русские войска оставили Ниеншанц и отошли к Нотеборгу, а затем за пограничную реку Лаву30. Известно, что в 1657 г. в Ниеншанце случилась чума, и из 400 человек гарнизона в живых остались лишь 60. По сообщениям пленных, зимой 1657–1658 гг. в Канцах был сделан «земляной острог», в котором размещались 300 человек гарнизона с 10 пушками31.
Война приняла затяжной характер. В 1658 г. было заключено трехлетнее перемирие, а в 1661 г. подписан Кардисский мир, по которому Ингерманландия оставалась за Швецией. В 1659 г., после вступления в силу перемирия, новый генерал-губернатор провинции Симон Гельмфельт получил приказ об укреплении Ниена – «весьма значительного и важного населенного пункта» – в соответствии с прежним планом32. Уже в сентябре 1661 г. он рапортовал о том, что строительство укреплений цитадели почти полностью завершено. Однако в том же году Якоб Шталь разработал новый план укрепления Ниена. Возможно, на этот раз речь шла лишь о цитадели, поскольку в 1663 г. король отдал приказ продолжить работы в цитадели и поручил Якобу Шталю подготовить план для укрепления всего города. В 1665 г. этот план был составлен и после некоторой доработки в Военной Коллегии начал осуществляться в следующем году. Городское укрепление включало семь «королевских» – больших – бастионов. 13 июня план городских укреплений был размечен на местности. Согласно рапорту от 7 сентября, работы в цитадели были завершены и начато строительство городских валов. По сообщению от 3 ноября, работы над городскими укреплениями продвинулись довольно далеко33.
Строительство укреплений вокруг города Ниена продолжалось до 1666 г. В основу фортификационных работ 1660-х – начала 1670-х гг. были положены проектные чертежи И. Варншельда и братьев Якоба и Юхана Шталей34. Дополнительные укрепления с тремя бастионами между Невой и Охтой южнее цитадели были размечены на местности в 1672 г., и в следующие годы работы продвигались,
хотя и медленно. Укрепления цитадели также предполагалось дополнить двумя равелинами для защиты двух ворот, ведущих в город и морских ворот на берегу Невы. План, приложенный к рапорту Эрика Дальберга королю в декабре 1681 г., показывает состояние крепости при посещении ее в октябре этого года. Укрепления в южной части района города на мысу между Невой и Охтой были завершены, но соединение с цитаделью на севере все еще отсутствовало35. Изображения крепости на планах второй половины XVII в. отличаются от проектов укреплений, предлагавшихся в 1630–1650-е гг. На них она получает форму пятиконечной звезды с пятью бастионами. Ее размещение на узком мысу удалось осуществить только благодаря расширению мыса в результате подсыпки и укрепления берегов Невы и Охты. Изменения очертаний береговой линии хорошо заметны на поздних планах крепости.
Согласно фиксационным планам Ниеншанц представлял собой правильный пятиугольник с полными бастионами на углах36. Согласно плану 1681 г. диаметр окружности, описываемой по ее оконечностям, составлял около 245 м. Ширина самих бастионов достигала около 60 м, расстояния между их шпицами – линии наружного полигона, около 137 м. Протяженность куртин между бастионами составляла 50,4 м. Ширина валов достигала около 19 м. Максимальная ширина рва напротив центральной части куртин была 27 м. По другим планам цитадели второй половины XVII в. все эти параметры несколько варьируются.
Высота валов и глубина рва может определяться по проектным разрезам укреплений. Судя по плану 1681 г., на котором изображен разрез для новых, внешних укреплений Ниеншанца, высота вала составляла около 4,2 м, глубина рва – около 3,3 м. Однако и ширина валов в этой части составляла около 12 м, а ширина рвов – около 17,8 м. Таким образом, эти укрепления могли быть не столь значительны, как укрепления цитадели. По мнению Ф. Ласковского, высота вала главных укреплений, считая и глубину рва, составляла 6 саж. (12,78 м при величине 1 сажени 2,13 м. – П.С.), а его «ширина или толщина заложения» – 9 саж. (19,2 м)37. При этом ссылки на какие-то документы отсутствуют. Возможно, параметры соотношения высоты к ширине фортификационных сооружений были вычислены на основании аналогий.
Во рву по периметру крепости были установлены «палисады» – ограда из частокола. С южной и северо-восточной сторон крепости имелись воротные равелины треугольной формы. Первый из них – Большой – был связан дорогой с мостом через Охту, за которой находился центр города Ниена. Второй – с воротами, выходившими на мыс к Неве, – назывался Малый. К ним через оборонительный ров были устроены подъемные мосты. Каждый из пяти бастионов также имел свое название. Южные бастионы именовались: Карлов (со стороны Охты) и Гельмфельтов (со стороны Невы). Они носили имя короля и генерал-губернатора Ингерманландии, во времена которых строилась крепость. Западный бастион, выходивший на Неву, назывался Гварн – Мельничный. Возможно, на нем действительно была установлена мельница. Северный, обращенный к устью Охты, был назван Гамбле, что означает Старый. Не исключено, что на этом месте был один из бастионов первоначальной крепости, сохраненный в новых укреплениях. Восточный бастион, выходивший к Охте, именовался Мертвый, так как он располагался на месте позднесредневекового могильника38.
В 1670-е гг. концепция укрепления Ниеншанца была изменена. В проектных планах этого времени предлагалось сконцентрировать силы и средства на укреплении мыса между Невой и Охтой, что диктовалось экономическими соображениями. Учитывая, что территория мыса была защищена природными рубежами – реками Невой и Охтой с западной, северной и восточной сторон и труднопроходимыми заболоченными лесами с южной, земляные укрепления с тремя бастионами предполагалось возвести только на наиболее уязвимом южном направлении – между Охтой и Невой, расстояние между которыми составляло около 500 м. Но здесь возникала другая, не менее сложная проблема – необходимо было перенести весь город под защиту новых укреплений.
Изображение ранних укреплений Ниеншанца, вероятно построенных в 1611 г., имеется на шведских картах середины XVII столетия. Следует заметить, что эти карты, за редким исключением, выполнены достаточно схематично, что не позволяет достоверно определить размеры и точную локализацию укреплений. На карте Эрика Нильса Аспегрена, изготовленной около 1650 г., на мысу при впадении Охты в Неву показан прямоугольный шанец «Konungsgarden» – «Королевский двор»21. На карте, датируемой около 1650 г., имеется схематичное изображение замка – двухэтажного сооружения с башенками22. Шанец был небольшим и имел прямоугольную форму. Его размеры достигали 120х100 шведских локтей, а толщина стен
составляла 15 локтей (примерно 72х60 м и около 9 м. – П.С.)23.
На более ранней карте устья Невы 1643 г. крепость изображена более детально – с внешними земляными укреплениями, включавшими значительную по площади территорию24. Она имела вид неправильного шестиугольника с тремя бастионами, выдвинутыми в южном и восточном направлениях. В крепостных валах было двое ворот, одни из которых вели к мосту через Охту, другие выходили на берег Невы. Цитадель прямоугольной формы располагалась в центральной части крепости, а вокруг нее находились другие постройки (рис. 1).
На проектном чертеже Георга Швенгеля замок прямоугольной формы с семигранными башенками по углам и воротами в восточной стене, выходившими к Охте, был смещен к западу от центра мыса и находился ближе к берегу Невы. План датирован 1644 г., однако нанесенная на нем ситуация, судя по имеющейся надписи, может частично восходить к более раннему времени. «Здесь в 1633 году я по милостивому повелению Вашего Королевского Величества наметил поселение для обывателей, Бог в помощь» – написано на плане. Таким образом, разметка города и, вероятно, укреплений была начата всего год спустя после королевского указа об основании города Ниена на Неве, в 1633 г.25
Однако с гибелью короля Густава II Адольфа реализация этих планов затянулась. Новый – исправленный проект был подготовлен тем же автором только в 1644 г., после постановления Государственного совета 1638 г. о распланировании города. Проектный чертеж предусматривал строительство новых укреплений с двумя линиями обороны.
Внешние валы и рвы в форме полумесяца, замыкающиеся на берега Невы и Охты, должны были окружить всю городскую застройку по обе стороны Охты. В пределах укреплений предусматривалось сооружение восьми бастионов, усиленных равелинами. Единственные ворота проектировались в северной части – по трассе дороги на Выборг. Со стороны Невы город также должны были защищать укрепления, хотя и менее внушительные, чем с напольной стороны. На мысу между Невой и Охтой планировалось сооружение пятиугольной цитадели с четырьмя бастионами и тремя равелинами. В центре ее предполагалось сохранить первоначальный замок. Бастионы цитадели должны были иметь удлиненные фасы с острыми исходящими углами и укороченные фланки, располагающиеся перпендикулярно куртинам крепости, что характерно для голландской системы укреплений. Однако реализация этого проекта затянулась.
В 1652 г. генерал-губернатор Ингерманландии Эрик Стенбок послал новый план укреплений Ниена в Стокгольм. Он сетовал на то, что город Ниен до сих пор не укреплен. «Если крепость к этому времени была укреплена и могла выдержать осаду, то расположенный вокруг нее незащищенный город был бы большой помехой при
ее обороне, так как дома, используемые противником в качестве прикрытия, значительно облегчили бы штурм», – докладывал он в Стокгольм. В том же году правительство утвердило обновленный генерал-квартирмейстером Юханом фон Роденбургом проект укреплений Ниена. Военная коллегия поручила Юхану Верншёльду переработать этот план в некоторых пунктах, после чего он был послан в Ниен для осуществления. За разметку на местности отвечал Генрих фон Зойленберг. Надзор за работами был поручен Юхану фон Роденбургу, но впоследствии работы были приостановлены26. На проектном чертеже городские укрепления приобретают более округлые очертания. Количество бастионов в них уменьшается до семи. Двое ворот из города вели в направлении Выборга и Нотеборга. Цитадель, расположенная на мысу, имеет форму звезды с пятью пустыми бастионами. Два ее бастиона выходят в русла Невы и Охты, а окружающий ров заполнен водой. По внутреннему периметру укреплений и в центре цитадели планировались постройки. Единственные крепостные ворота без равелина были со стороны Охты27.
Проекты 1630–1650-х гг. предусматривали сооружение укреплений вокруг уже сформировавшегося города и включение в него новых, еще не освоенных территорий на левом берегу Охты. Однако реализация их затягивалась из-за отсутствия средств. В каком состоянии крепость находилась к началу войны 1656–1661 гг., не совсем ясно. Во всяком случае ее укрепления, видимо, еще не были завершены. В этой войне Россия попыталась вернуть утраченный выход к Балтике. Весной и летом 1656 г. русские войска вступили в Прибалтику, Ингерманландию и Карелию. В начале июня войско под руководством Петра Потемкина блокировало крепость Нотеборг. Услышав о приближении русских, находившийся в Ниеншанце генерал-губернатор Густав Горн с людьми на судах эвакуировался в Нарву28. 30 июня Ниеншанц был взят отрядом русских войск. В городе были сожжены около 500 домов, значительные запасы хлеба и захвачены восемь пушек29. Однако вскоре после этого, учитывая, что в Нарве находились превосходящие силы противника, русские войска оставили Ниеншанц и отошли к Нотеборгу, а затем за пограничную реку Лаву30. Известно, что в 1657 г. в Ниеншанце случилась чума, и из 400 человек гарнизона в живых остались лишь 60. По сообщениям пленных, зимой 1657–1658 гг. в Канцах был сделан «земляной острог», в котором размещались 300 человек гарнизона с 10 пушками31.
Война приняла затяжной характер. В 1658 г. было заключено трехлетнее перемирие, а в 1661 г. подписан Кардисский мир, по которому Ингерманландия оставалась за Швецией. В 1659 г., после вступления в силу перемирия, новый генерал-губернатор провинции Симон Гельмфельт получил приказ об укреплении Ниена – «весьма значительного и важного населенного пункта» – в соответствии с прежним планом32. Уже в сентябре 1661 г. он рапортовал о том, что строительство укреплений цитадели почти полностью завершено. Однако в том же году Якоб Шталь разработал новый план укрепления Ниена. Возможно, на этот раз речь шла лишь о цитадели, поскольку в 1663 г. король отдал приказ продолжить работы в цитадели и поручил Якобу Шталю подготовить план для укрепления всего города. В 1665 г. этот план был составлен и после некоторой доработки в Военной Коллегии начал осуществляться в следующем году. Городское укрепление включало семь «королевских» – больших – бастионов. 13 июня план городских укреплений был размечен на местности. Согласно рапорту от 7 сентября, работы в цитадели были завершены и начато строительство городских валов. По сообщению от 3 ноября, работы над городскими укреплениями продвинулись довольно далеко33.
Строительство укреплений вокруг города Ниена продолжалось до 1666 г. В основу фортификационных работ 1660-х – начала 1670-х гг. были положены проектные чертежи И. Варншельда и братьев Якоба и Юхана Шталей34. Дополнительные укрепления с тремя бастионами между Невой и Охтой южнее цитадели были размечены на местности в 1672 г., и в следующие годы работы продвигались,
хотя и медленно. Укрепления цитадели также предполагалось дополнить двумя равелинами для защиты двух ворот, ведущих в город и морских ворот на берегу Невы. План, приложенный к рапорту Эрика Дальберга королю в декабре 1681 г., показывает состояние крепости при посещении ее в октябре этого года. Укрепления в южной части района города на мысу между Невой и Охтой были завершены, но соединение с цитаделью на севере все еще отсутствовало35. Изображения крепости на планах второй половины XVII в. отличаются от проектов укреплений, предлагавшихся в 1630–1650-е гг. На них она получает форму пятиконечной звезды с пятью бастионами. Ее размещение на узком мысу удалось осуществить только благодаря расширению мыса в результате подсыпки и укрепления берегов Невы и Охты. Изменения очертаний береговой линии хорошо заметны на поздних планах крепости.
Согласно фиксационным планам Ниеншанц представлял собой правильный пятиугольник с полными бастионами на углах36. Согласно плану 1681 г. диаметр окружности, описываемой по ее оконечностям, составлял около 245 м. Ширина самих бастионов достигала около 60 м, расстояния между их шпицами – линии наружного полигона, около 137 м. Протяженность куртин между бастионами составляла 50,4 м. Ширина валов достигала около 19 м. Максимальная ширина рва напротив центральной части куртин была 27 м. По другим планам цитадели второй половины XVII в. все эти параметры несколько варьируются.
Высота валов и глубина рва может определяться по проектным разрезам укреплений. Судя по плану 1681 г., на котором изображен разрез для новых, внешних укреплений Ниеншанца, высота вала составляла около 4,2 м, глубина рва – около 3,3 м. Однако и ширина валов в этой части составляла около 12 м, а ширина рвов – около 17,8 м. Таким образом, эти укрепления могли быть не столь значительны, как укрепления цитадели. По мнению Ф. Ласковского, высота вала главных укреплений, считая и глубину рва, составляла 6 саж. (12,78 м при величине 1 сажени 2,13 м. – П.С.), а его «ширина или толщина заложения» – 9 саж. (19,2 м)37. При этом ссылки на какие-то документы отсутствуют. Возможно, параметры соотношения высоты к ширине фортификационных сооружений были вычислены на основании аналогий.
Во рву по периметру крепости были установлены «палисады» – ограда из частокола. С южной и северо-восточной сторон крепости имелись воротные равелины треугольной формы. Первый из них – Большой – был связан дорогой с мостом через Охту, за которой находился центр города Ниена. Второй – с воротами, выходившими на мыс к Неве, – назывался Малый. К ним через оборонительный ров были устроены подъемные мосты. Каждый из пяти бастионов также имел свое название. Южные бастионы именовались: Карлов (со стороны Охты) и Гельмфельтов (со стороны Невы). Они носили имя короля и генерал-губернатора Ингерманландии, во времена которых строилась крепость. Западный бастион, выходивший на Неву, назывался Гварн – Мельничный. Возможно, на нем действительно была установлена мельница. Северный, обращенный к устью Охты, был назван Гамбле, что означает Старый. Не исключено, что на этом месте был один из бастионов первоначальной крепости, сохраненный в новых укреплениях. Восточный бастион, выходивший к Охте, именовался Мертвый, так как он располагался на месте позднесредневекового могильника38.
В 1670-е гг. концепция укрепления Ниеншанца была изменена. В проектных планах этого времени предлагалось сконцентрировать силы и средства на укреплении мыса между Невой и Охтой, что диктовалось экономическими соображениями. Учитывая, что территория мыса была защищена природными рубежами – реками Невой и Охтой с западной, северной и восточной сторон и труднопроходимыми заболоченными лесами с южной, земляные укрепления с тремя бастионами предполагалось возвести только на наиболее уязвимом южном направлении – между Охтой и Невой, расстояние между которыми составляло около 500 м. Но здесь возникала другая, не менее сложная проблема – необходимо было перенести весь город под защиту новых укреплений.
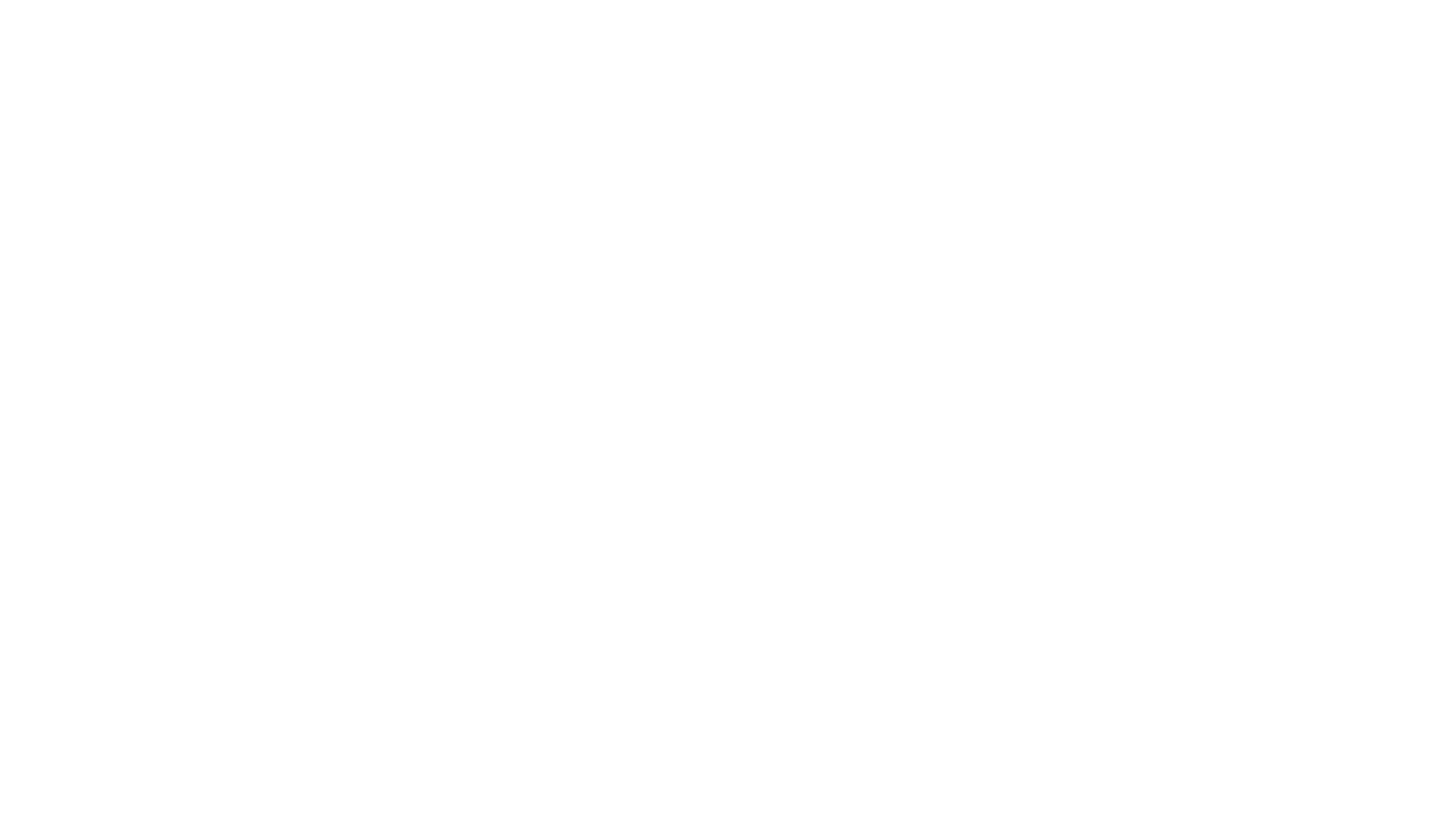
В 1675 г. генерал-квартирмейстер Эрик Дальберг предложил на рассмотрение правительства новый проект укреплений Ниеншанца, который развивал и конкретизировал проект Юхана Шталя 1671 г.39 Если первоначально укрепления этой крепости строились в соответствии с голландской системой фортификации, то новый проект был выполнен в традициях передовой в то время французской фортификационной школы. Внутри существовавшей крепости показаны: дом коменданта, два барака – казармы, три караульных помещения, находившиеся у ворот, и пороховой погреб в Мельничном бастионе. Главной идеей, заложенной в новые проекты, было то, что они предусматривали перенос всего города с правого берега Охты на левый – в пределы сооружаемой крепости. Однако строительные работы шли медленно.
В описании Ниеншанца Эриком Дальбергом в 1681 г. говорилось, что крепость слишком далеко выдвинута на мыс и этим ослаблена, городские же укрепления вовсе несовершенны и принесут больше вреда, чем пользы для обороны крепости40. Два бастиона крепости, выходящие на Неву и Охту, постоянно разрушались в периоды наводнений и ледохода. Вероятно, первоначально окружавшие ее оборонительные рвы были соединены с Невой и Охтой, и заполнение их водой приводило к размыву склонов рва. По плану Дальберга эти места должны были быть перекрыты мощными свайными берегоукреплениями (рис. 2). Кроме того планировалось облицевать эскарповые стены главного вала камнем от дна рва до уровня горизонта41. Дальберг вновь настаивал на переносе всего города внутрь новых укреплений, запланированных на левом берегу Охты. При этом, по его мнению, здесь предполагалось строить только каменные дома, а крепость должна была стать большой и просторной, чтобы окрестное население в случае войны могло укрыться в ней42. Только в 1698 г. в ответ на новые просьбы жителей Ниена и генерал-губернатора Ингерманландии, поддержанные Дальбергом, обратившимся с письмом к новому королю, Карлу XII, средства на продолжение фортификационных работ были наконец выделены.
Генерал-квартирмейстер Карл Магнус Стюарт направил королю новый проект крепости, который воплощал в себе многие предложения его предшественников и в то же время включал много новых фортификационных идей43. Он также предусматривал размещение всего города на мысу между Невой и Охтой. Основная крепость должна была иметь форму шестиугольника с бастионами по углам, а также два воротных равелина, один из которых выходил к мосту через Охту, второй – главный – располагался с южной стороны. При этом предполагалось ликвидировать старую цитадель. Но три ее северных бастиона и равелин, обращенный к Неве, сохранялись и включались в состав дополнительных укреплений, примыкавших к крепости с севера и защищавших оконечность мыса. Для прикрытия моста на правом берегу Охты предполагалось соорудить кронверк. Помимо этих фортификаций впервые планировалось построить укрепления и на левом берегу Невы вокруг Спасского села.
В 1699 г. правительство выделило средства и направило 600 человек на строительство укреплений Ниеншанца. Были возведены валы и редуты на подступах к Ниеншанцу. Предполагалось, что жители Ниена за свой счет должны оборудовать в ее земляных валах специальные бомбоубежища. Однако жители, собравшись на совет, постановили, что они не в состоянии взять на себя эти расходы44. С началом Северной войны войска генерал-майора Абрахама Крониорта продолжили работы по сооружению южной линии укреплений между Невой и Охтой. Тогда же для защиты подступов к крепости с запада на левом берегу Невы вокруг Спасского села также были построены укрепления. В 1701 г., по сообщению русских торговых, людей «город Канцы стоит в устье Охты; город земляной, вал старый, башен нет, за валом рогатки деревянные и ров. Изо рву к валу палисады сосновые, город небольшой, земли в нем всего с десятину, величиною, по примеру, с каменную Ладогу. Пушек в Канцах много железных. В городе только один воеводский дом да солдатских домов с 10». Согласно показаниям пленного, в следующем 1702 г. оборонительные сооружения Ниеншанца быстро приводились в порядок: «…прежней вал старой, который был неотделке, вновь зделан, на том валу раскат и поставлено три пушки… а в Канцах от реки и по городовой стене, и по башнем поставлено пушек со сто железных». Вокруг Спасского также был построен «вал величиною с сажень, обнесенный рвом»45.
Вскоре после падения Нотеборга 18–20 ноября 1702 г. по решению военного командования жители города Ниена были переселены в Выборг, а сам город был сожжен из-за опасения внезапного появления русских войск. Однако русское наступление было начато только в апреле следующего года. Перед штурмом весь гарнизон крепости состоял из 700 солдат. В крепости имелось 70 чугунных и 5 медных орудий разных калибров, а также 3 мортиры. С русской стороны в штурме крепости участвовал двадцатитысячный корпус под командованием фельдмаршала Б.П. Шереметева46. Осада с массированным артобстрелом продолжалась с 25 апреля по 1 мая, после чего гарнизон капитулировал. После падения Ниеншанца крепость была переименована в Шлотбург. Военный совет принял решение выбрать новое место для крепости, поскольку «он (Шлотбург. – П.С.) мал, далеко от моря и место не гораздо крепко от натуры»47. Выбор Заячьего острова для новой крепости, помимо некоторых преимуществ, таких как близость к морю и расположение в окружении воды, имел и явные недостатки. Новая крепость находилась в зоне затопления наводнениями, кроме того, она не контролировала проход судов по всем рукавам невской дельты, а это требовало строительства дополнительных укреплений.
Историки называют различные даты разрушения Ниеншанца: 6 мая, 16 мая, 29 июня, середина сентября 1703 г. Г.Г. Приамурский относит дефортификацию Ниеншанца ко времени, когда была построена крепость Кроншлот, и не позднее закладки Адмиралтейства – т.е. между 7 мая и 5 ноября 1704 г.48 Подробные документы, которые могли бы уточнить время и обстоятельства разрушения Ниеншанца, пока неизвестны. Следует полагать, однако, что разрушение крепости в петровское время не было полным. Дефортификация Ниеншанца была делом очень трудоемким, поэтому укрепления были разрушены лишь частично, с тем чтобы неприятель не мог их вновь использовать. Вероятно, в какой-то мере были разрушены валы и бастионы крепости.
Несмотря на свидетельства о полном уничтожении Ниеншанца, следы его укреплений на мысу между Невой и Охтой в виде сохраняющейся планиграфии крепости с пятью бастионами можно проследить на картах Петербурга XVIII – начала ХIХ столетия. На плане 1808 г. изображены еще все валы и бастионы крепости, но уже без равелинов. А на плане Шуберта 1828 г. очертания крепости, на месте которой была сооружена верфь, все еще отчетливо прослеживаются в рельефе местности. В течение XIX–ХХ вв., когда здесь существовали Охтинская верфь и Петрозавод, остатки укреплений были полностью снивелированы, а культурные слои, связанные с ее существованием, в значительной степени переотложены49.
Первые разведочные археологические раскопки на мысу в устье реки Охты были проведены Санкт-Петербургской археологической экспедицией в 1992–1993 гг.50 Уже тогда здесь были выявлены культурный слой XVII в. и захоронения XVI в. Однако из-за плотного размещения на территории памятника заводских сооружений, разветвленных инженерных коммуникаций и дорожного покрытия, а также незначительной площади разведочных шурфов, обнаружить здесь какие-либо отчетливые остатки фортификационных сооружений не удалось. Однако по результатам этих исследований территория была поставлена на охрану как объект культурного наследия.
В 2006 г. в связи с подготовкой нового строительства на этом участке корпуса Петрозавода были снесены, что позволило продолжить археологические раскопки на этой территории. В 2007–2008 гг. в ходе раскопок на юго-восточном участке мыса, вблизи левого берега Охты, и в его центральной части были изучены засыпанные рвы различных периодов существования фортификационных сооружений на этой территории51. Предварительно можно выделить три этапа их строительства. Две линии рвов, относящиеся к крепости Ландскрона, были прослежены с восточной стороны, вдоль берега реки Охты, на протяжении около 70 м и с южной напольной стороны на протяжении около 50 м. Судя по находкам, обнаруженным в верхней части заполнения обоих рвов, они могли быть использованы в XVI в., а также в самом начале XVII в., при строительстве первоначальных укреплений Ниеншанца. Рвы были окончательно засыпаны только в XVII столетии при строительстве новых укреплений Ниеншанца. В позднем заполнении внешнего и внутреннего рвов с южной стороны было найдены около двух сотен скоплений человеческих костей – переотложенных погребений. В двух местах – во внешнем рву – они носили явные следы перезахоронения. Здесь несколько десятков черепов были сложены горками вместе. Отдельные человеческие кости и их небольшие скопления встречались также в засыпке рвов и в других местах. При этом часть из них принадлежала детям и женщинам, что позволяет связывать их с позднесредневековым могильником, находившимся на левом берегу Охты. Общее количество обнаруженных человеческих
останков на исследуемой территории превышает обычное количество захоронений в составе сельских могильников региона. Два выявленных перезахоронения могли быть связаны также с массовым захоронением шведских воинов, погибших при Ландскроне, однако это предположение требует дальнейшего изучения.
Следующий этап строительства крепостных сооружений может быть отнесен к первым десятилетиям существования Ниеншанца. В этот период направление рва несколько меняется – в результате его внутренняя стенка пересекает внешний ров предшествующего периода под углом около 20°, отклоняясь в северной части к востоку. Его стенки, сделанные под углом около 60°, укрепляются дерновой обкладкой шириной около 1,5 м, предохранявшей их от оползания. Дерновая кладка делалась из горизонтальных пластов дерна, нарезанного прямоугольниками. За рвом с его внутренней стороны были прослежены две линии дерновых кладок, связанные с основанием крепостного вала.
Третий этап фортификационного строительства связан с полной перепланировкой оборонительных сооружений Ниеншанца в конце войны 1656–1661 гг., когда здесь была построена крепость с пятью бастионами и двумя воротными равелинами в форме звезды. Участок рва, примыкающий к эскарповой стене вдоль юго-восточной куртины крепости, между Карловым и Мертвым бастионами и перед фланками этих бастионов, был исследован на протяжении около 50 м. На дне рва в основании склона при строительстве были срублены клети шириной около 2 м. Они состояли из уложенных вдоль склона двух рядов бревен, соединенных внахлест и скрепленных между собой путем врубки поперечинами. Деревянная конструкция служила опорой дерновой кладки, облицовывавшей склон рва под углом около 50° и предохранявшей ее от оползания. В 3 м от стенки рва был обнаружен палисад – род частокола из бревен диаметром до 20 см, который сохранился на высоту до 1,2 м. Он должен был служить препятствием для штурмующих крепость при преодолении рва. Участок рва, примыкающий к внешней стенке, исследовать на этом этапе не удалось.
На месте примыкания куртины к Мертвому бастиону был исследован потайной ход – в виде лестничного спуска, выходящего в ров. Лестница шириной 1,3 м, прослеженная на протяжении более 3 м, спускалась под углом около 30°. Со стороны рва выход был закрыт деревянной дверью, сохранившейся на полную высоту. Она имела размеры 1,2 м в высоту и 1,1 м в ширину. Массивные железные накладки – жиковины – с петлями обеспечивали ее соединение с притолокой. Сверху потайной ход был перекрыт бревнами, покрытыми листами бересты. Потайной ход – сортия – служил для выхода осажденных в ров при вылазках и отражении неприятеля. Неплохая сохранность двери объясняется тем, что она была присыпана землей. Это либо было сделано для ее маскировки, либо произошло непроизвольно из-за обрушения вала при штурме.
С внутренней стороны к южному фланку бастиона примыкали остатки прямоугольной постройки, погибшей в пожаре. Расположение постройки и обнаруженные в ней монеты королевы Кристины 1640-х гг. свидетельствуют о том, что она относится ко времени до строительства новых укреплений крепости в 1650–1660-х гг. Вероятно, ее гибель была связана со взятием Ниеншанца русскими войсками в 1656 г.
У левого фланка Карлова бастиона на высоте около 1,5 м над донной поверхностью рва была исследована деревянная платформа, служившая, вероятно, для ведения фланкирующего обстрела. Она опиралась на дерновый склон рва и на деревянные столбы, забитые в его дно. Протяженность платформы вдоль стенки рва составляла около 9,6 м, ширина – около 2 м. В южной части платформа имеет следы значительных разрушений деревянных конструкций, среди которых имеются находки осколков мортирных бомб.
Наземные оборонительные сооружения крепости второй половины XVII в. – валы – на исследованном участке не сохранились. В заполнении рва прослеживаются три слоя. Нижний связан с заплыванием рва в период существования крепости. Два других слоя характеризуют два этапа его засыпки. Первый связан с разрушением крепости после взятия и, вероятно, представляет собой частично снивелированные насыпи крепостных валов. Окончательно ров был засыпан слоем щепы уже в начале XIX в., когда на этой территории существовала Охтинская корабельная верфь. В заполнении рва были встречены находки разных эпох, от неолитических каменных орудий и позднесредневековой белоглиняной керамики, свидетельствующих об освоенности этой территории в глубокой древности, до предметов XIX в. Ко времени существования Ниеншанца относятся: фрагменты североевропейской керамики, голландских курительных трубок, кожаная и плетеная из бересты обувь, шведские монеты, ядра, картечь. Огромные осколки чугунных мортирных бомб были найдены непосредственно на дне крепостного рва. Еще одна неразорвавшаяся бомба диаметром 30 см и весом 71 кг была обнаружена в центральной части крепости. Они служат ярким свидетельством ожесточенного штурма ее русскими войсками в 1703 г.
Несмотря на свидетельства о полном уничтожении Ниеншанца, следы его укреплений на мысу между Невой и Охтой можно проследить на картах Петербурга XVIII– ХIХ столетий. Ниеншанц, к сожалению, не стал историческим памятником в Петербурге и был обречен на разрушение. Строительство здесь Охтинской верфи в XIX в. и Петрозавода в ХХ в. привели к окончательной нивелировке фортификационных сооружений. И до недавнего времени даже существование каких-либо следов прошлого на этой территории ставилось под сомнение. В числе причин, повлиявших на уничтожение крепости, можно назвать как политические мотивы, так и общее отношение к историческим памятникам такого типа в предшествующее время. Что касается нашего времени, это скептицизм по отношению к возможностям сохранения археологических объектов в условиях городской среды и неразвитость охранного законодательства.
В результате раскопок на Охтинском мысу была получена новая научная информация по истории Приневского региона (предыстории Петербурга) и собрана ценная коллекция артефактов III тыс. до н.э. – XVII в., позволяющая ставить вопрос о создании здесь Археологического музея Петербурга. Учитывая уникальность выявленных объектов и их значимость для истории Петербурга, России и Европы, необходимо предусмотреть их дальнейшее сохранение. Наилучшим вариантом сохранения выявленных сооружений было бы создание здесь ландшафтного археологического музея-заповедника.
ПЕТР ЕГОРОВИЧ СОРОКИН
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, руководитель Санкт-Петербургской археологической экспедиции (Санкт-Петербург)
В описании Ниеншанца Эриком Дальбергом в 1681 г. говорилось, что крепость слишком далеко выдвинута на мыс и этим ослаблена, городские же укрепления вовсе несовершенны и принесут больше вреда, чем пользы для обороны крепости40. Два бастиона крепости, выходящие на Неву и Охту, постоянно разрушались в периоды наводнений и ледохода. Вероятно, первоначально окружавшие ее оборонительные рвы были соединены с Невой и Охтой, и заполнение их водой приводило к размыву склонов рва. По плану Дальберга эти места должны были быть перекрыты мощными свайными берегоукреплениями (рис. 2). Кроме того планировалось облицевать эскарповые стены главного вала камнем от дна рва до уровня горизонта41. Дальберг вновь настаивал на переносе всего города внутрь новых укреплений, запланированных на левом берегу Охты. При этом, по его мнению, здесь предполагалось строить только каменные дома, а крепость должна была стать большой и просторной, чтобы окрестное население в случае войны могло укрыться в ней42. Только в 1698 г. в ответ на новые просьбы жителей Ниена и генерал-губернатора Ингерманландии, поддержанные Дальбергом, обратившимся с письмом к новому королю, Карлу XII, средства на продолжение фортификационных работ были наконец выделены.
Генерал-квартирмейстер Карл Магнус Стюарт направил королю новый проект крепости, который воплощал в себе многие предложения его предшественников и в то же время включал много новых фортификационных идей43. Он также предусматривал размещение всего города на мысу между Невой и Охтой. Основная крепость должна была иметь форму шестиугольника с бастионами по углам, а также два воротных равелина, один из которых выходил к мосту через Охту, второй – главный – располагался с южной стороны. При этом предполагалось ликвидировать старую цитадель. Но три ее северных бастиона и равелин, обращенный к Неве, сохранялись и включались в состав дополнительных укреплений, примыкавших к крепости с севера и защищавших оконечность мыса. Для прикрытия моста на правом берегу Охты предполагалось соорудить кронверк. Помимо этих фортификаций впервые планировалось построить укрепления и на левом берегу Невы вокруг Спасского села.
В 1699 г. правительство выделило средства и направило 600 человек на строительство укреплений Ниеншанца. Были возведены валы и редуты на подступах к Ниеншанцу. Предполагалось, что жители Ниена за свой счет должны оборудовать в ее земляных валах специальные бомбоубежища. Однако жители, собравшись на совет, постановили, что они не в состоянии взять на себя эти расходы44. С началом Северной войны войска генерал-майора Абрахама Крониорта продолжили работы по сооружению южной линии укреплений между Невой и Охтой. Тогда же для защиты подступов к крепости с запада на левом берегу Невы вокруг Спасского села также были построены укрепления. В 1701 г., по сообщению русских торговых, людей «город Канцы стоит в устье Охты; город земляной, вал старый, башен нет, за валом рогатки деревянные и ров. Изо рву к валу палисады сосновые, город небольшой, земли в нем всего с десятину, величиною, по примеру, с каменную Ладогу. Пушек в Канцах много железных. В городе только один воеводский дом да солдатских домов с 10». Согласно показаниям пленного, в следующем 1702 г. оборонительные сооружения Ниеншанца быстро приводились в порядок: «…прежней вал старой, который был неотделке, вновь зделан, на том валу раскат и поставлено три пушки… а в Канцах от реки и по городовой стене, и по башнем поставлено пушек со сто железных». Вокруг Спасского также был построен «вал величиною с сажень, обнесенный рвом»45.
Вскоре после падения Нотеборга 18–20 ноября 1702 г. по решению военного командования жители города Ниена были переселены в Выборг, а сам город был сожжен из-за опасения внезапного появления русских войск. Однако русское наступление было начато только в апреле следующего года. Перед штурмом весь гарнизон крепости состоял из 700 солдат. В крепости имелось 70 чугунных и 5 медных орудий разных калибров, а также 3 мортиры. С русской стороны в штурме крепости участвовал двадцатитысячный корпус под командованием фельдмаршала Б.П. Шереметева46. Осада с массированным артобстрелом продолжалась с 25 апреля по 1 мая, после чего гарнизон капитулировал. После падения Ниеншанца крепость была переименована в Шлотбург. Военный совет принял решение выбрать новое место для крепости, поскольку «он (Шлотбург. – П.С.) мал, далеко от моря и место не гораздо крепко от натуры»47. Выбор Заячьего острова для новой крепости, помимо некоторых преимуществ, таких как близость к морю и расположение в окружении воды, имел и явные недостатки. Новая крепость находилась в зоне затопления наводнениями, кроме того, она не контролировала проход судов по всем рукавам невской дельты, а это требовало строительства дополнительных укреплений.
Историки называют различные даты разрушения Ниеншанца: 6 мая, 16 мая, 29 июня, середина сентября 1703 г. Г.Г. Приамурский относит дефортификацию Ниеншанца ко времени, когда была построена крепость Кроншлот, и не позднее закладки Адмиралтейства – т.е. между 7 мая и 5 ноября 1704 г.48 Подробные документы, которые могли бы уточнить время и обстоятельства разрушения Ниеншанца, пока неизвестны. Следует полагать, однако, что разрушение крепости в петровское время не было полным. Дефортификация Ниеншанца была делом очень трудоемким, поэтому укрепления были разрушены лишь частично, с тем чтобы неприятель не мог их вновь использовать. Вероятно, в какой-то мере были разрушены валы и бастионы крепости.
Несмотря на свидетельства о полном уничтожении Ниеншанца, следы его укреплений на мысу между Невой и Охтой в виде сохраняющейся планиграфии крепости с пятью бастионами можно проследить на картах Петербурга XVIII – начала ХIХ столетия. На плане 1808 г. изображены еще все валы и бастионы крепости, но уже без равелинов. А на плане Шуберта 1828 г. очертания крепости, на месте которой была сооружена верфь, все еще отчетливо прослеживаются в рельефе местности. В течение XIX–ХХ вв., когда здесь существовали Охтинская верфь и Петрозавод, остатки укреплений были полностью снивелированы, а культурные слои, связанные с ее существованием, в значительной степени переотложены49.
Первые разведочные археологические раскопки на мысу в устье реки Охты были проведены Санкт-Петербургской археологической экспедицией в 1992–1993 гг.50 Уже тогда здесь были выявлены культурный слой XVII в. и захоронения XVI в. Однако из-за плотного размещения на территории памятника заводских сооружений, разветвленных инженерных коммуникаций и дорожного покрытия, а также незначительной площади разведочных шурфов, обнаружить здесь какие-либо отчетливые остатки фортификационных сооружений не удалось. Однако по результатам этих исследований территория была поставлена на охрану как объект культурного наследия.
В 2006 г. в связи с подготовкой нового строительства на этом участке корпуса Петрозавода были снесены, что позволило продолжить археологические раскопки на этой территории. В 2007–2008 гг. в ходе раскопок на юго-восточном участке мыса, вблизи левого берега Охты, и в его центральной части были изучены засыпанные рвы различных периодов существования фортификационных сооружений на этой территории51. Предварительно можно выделить три этапа их строительства. Две линии рвов, относящиеся к крепости Ландскрона, были прослежены с восточной стороны, вдоль берега реки Охты, на протяжении около 70 м и с южной напольной стороны на протяжении около 50 м. Судя по находкам, обнаруженным в верхней части заполнения обоих рвов, они могли быть использованы в XVI в., а также в самом начале XVII в., при строительстве первоначальных укреплений Ниеншанца. Рвы были окончательно засыпаны только в XVII столетии при строительстве новых укреплений Ниеншанца. В позднем заполнении внешнего и внутреннего рвов с южной стороны было найдены около двух сотен скоплений человеческих костей – переотложенных погребений. В двух местах – во внешнем рву – они носили явные следы перезахоронения. Здесь несколько десятков черепов были сложены горками вместе. Отдельные человеческие кости и их небольшие скопления встречались также в засыпке рвов и в других местах. При этом часть из них принадлежала детям и женщинам, что позволяет связывать их с позднесредневековым могильником, находившимся на левом берегу Охты. Общее количество обнаруженных человеческих
останков на исследуемой территории превышает обычное количество захоронений в составе сельских могильников региона. Два выявленных перезахоронения могли быть связаны также с массовым захоронением шведских воинов, погибших при Ландскроне, однако это предположение требует дальнейшего изучения.
Следующий этап строительства крепостных сооружений может быть отнесен к первым десятилетиям существования Ниеншанца. В этот период направление рва несколько меняется – в результате его внутренняя стенка пересекает внешний ров предшествующего периода под углом около 20°, отклоняясь в северной части к востоку. Его стенки, сделанные под углом около 60°, укрепляются дерновой обкладкой шириной около 1,5 м, предохранявшей их от оползания. Дерновая кладка делалась из горизонтальных пластов дерна, нарезанного прямоугольниками. За рвом с его внутренней стороны были прослежены две линии дерновых кладок, связанные с основанием крепостного вала.
Третий этап фортификационного строительства связан с полной перепланировкой оборонительных сооружений Ниеншанца в конце войны 1656–1661 гг., когда здесь была построена крепость с пятью бастионами и двумя воротными равелинами в форме звезды. Участок рва, примыкающий к эскарповой стене вдоль юго-восточной куртины крепости, между Карловым и Мертвым бастионами и перед фланками этих бастионов, был исследован на протяжении около 50 м. На дне рва в основании склона при строительстве были срублены клети шириной около 2 м. Они состояли из уложенных вдоль склона двух рядов бревен, соединенных внахлест и скрепленных между собой путем врубки поперечинами. Деревянная конструкция служила опорой дерновой кладки, облицовывавшей склон рва под углом около 50° и предохранявшей ее от оползания. В 3 м от стенки рва был обнаружен палисад – род частокола из бревен диаметром до 20 см, который сохранился на высоту до 1,2 м. Он должен был служить препятствием для штурмующих крепость при преодолении рва. Участок рва, примыкающий к внешней стенке, исследовать на этом этапе не удалось.
На месте примыкания куртины к Мертвому бастиону был исследован потайной ход – в виде лестничного спуска, выходящего в ров. Лестница шириной 1,3 м, прослеженная на протяжении более 3 м, спускалась под углом около 30°. Со стороны рва выход был закрыт деревянной дверью, сохранившейся на полную высоту. Она имела размеры 1,2 м в высоту и 1,1 м в ширину. Массивные железные накладки – жиковины – с петлями обеспечивали ее соединение с притолокой. Сверху потайной ход был перекрыт бревнами, покрытыми листами бересты. Потайной ход – сортия – служил для выхода осажденных в ров при вылазках и отражении неприятеля. Неплохая сохранность двери объясняется тем, что она была присыпана землей. Это либо было сделано для ее маскировки, либо произошло непроизвольно из-за обрушения вала при штурме.
С внутренней стороны к южному фланку бастиона примыкали остатки прямоугольной постройки, погибшей в пожаре. Расположение постройки и обнаруженные в ней монеты королевы Кристины 1640-х гг. свидетельствуют о том, что она относится ко времени до строительства новых укреплений крепости в 1650–1660-х гг. Вероятно, ее гибель была связана со взятием Ниеншанца русскими войсками в 1656 г.
У левого фланка Карлова бастиона на высоте около 1,5 м над донной поверхностью рва была исследована деревянная платформа, служившая, вероятно, для ведения фланкирующего обстрела. Она опиралась на дерновый склон рва и на деревянные столбы, забитые в его дно. Протяженность платформы вдоль стенки рва составляла около 9,6 м, ширина – около 2 м. В южной части платформа имеет следы значительных разрушений деревянных конструкций, среди которых имеются находки осколков мортирных бомб.
Наземные оборонительные сооружения крепости второй половины XVII в. – валы – на исследованном участке не сохранились. В заполнении рва прослеживаются три слоя. Нижний связан с заплыванием рва в период существования крепости. Два других слоя характеризуют два этапа его засыпки. Первый связан с разрушением крепости после взятия и, вероятно, представляет собой частично снивелированные насыпи крепостных валов. Окончательно ров был засыпан слоем щепы уже в начале XIX в., когда на этой территории существовала Охтинская корабельная верфь. В заполнении рва были встречены находки разных эпох, от неолитических каменных орудий и позднесредневековой белоглиняной керамики, свидетельствующих об освоенности этой территории в глубокой древности, до предметов XIX в. Ко времени существования Ниеншанца относятся: фрагменты североевропейской керамики, голландских курительных трубок, кожаная и плетеная из бересты обувь, шведские монеты, ядра, картечь. Огромные осколки чугунных мортирных бомб были найдены непосредственно на дне крепостного рва. Еще одна неразорвавшаяся бомба диаметром 30 см и весом 71 кг была обнаружена в центральной части крепости. Они служат ярким свидетельством ожесточенного штурма ее русскими войсками в 1703 г.
Несмотря на свидетельства о полном уничтожении Ниеншанца, следы его укреплений на мысу между Невой и Охтой можно проследить на картах Петербурга XVIII– ХIХ столетий. Ниеншанц, к сожалению, не стал историческим памятником в Петербурге и был обречен на разрушение. Строительство здесь Охтинской верфи в XIX в. и Петрозавода в ХХ в. привели к окончательной нивелировке фортификационных сооружений. И до недавнего времени даже существование каких-либо следов прошлого на этой территории ставилось под сомнение. В числе причин, повлиявших на уничтожение крепости, можно назвать как политические мотивы, так и общее отношение к историческим памятникам такого типа в предшествующее время. Что касается нашего времени, это скептицизм по отношению к возможностям сохранения археологических объектов в условиях городской среды и неразвитость охранного законодательства.
В результате раскопок на Охтинском мысу была получена новая научная информация по истории Приневского региона (предыстории Петербурга) и собрана ценная коллекция артефактов III тыс. до н.э. – XVII в., позволяющая ставить вопрос о создании здесь Археологического музея Петербурга. Учитывая уникальность выявленных объектов и их значимость для истории Петербурга, России и Европы, необходимо предусмотреть их дальнейшее сохранение. Наилучшим вариантом сохранения выявленных сооружений было бы создание здесь ландшафтного археологического музея-заповедника.
ПЕТР ЕГОРОВИЧ СОРОКИН
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, руководитель Санкт-Петербургской археологической экспедиции (Санкт-Петербург)

